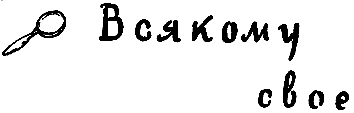
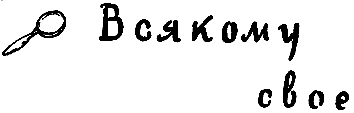
В XVII веке в городе Дельфте жил голландец Антоний Левенгук7. В молодости
— торговец сукном, позже — что-то вроде завхоза в судебной камере, он навсегда
вошел в историю науки, хотя и был всего самоучкой-любителем. Заинтересовавшись
увеличительными стеклами, он научился шлифовать их и достиг в этом деле
редкостного
для тех времен совершенства. Его линзы были, безукоризненны и на редкость
малы: всего диаметром три миллиметра и даже меньше. Увлекаясь все сильнее
и сильнее, Левенгук большую часть своей длинной жизни (он прожил девяносто
один год) отдал микроскопу. Правда, то был еще не микроскоп, а только лупа,
и на современный микроскоп он походил не больше, чем самовар на паровоз,
но он увеличивал. Великий искусник, Левенгук сумел изготовить микроскоп,
увеличивающий в двести семьдесят раз. Микроскоп открыл людям новый мир:
он позволял видеть до того невидимое.
Прошло некоторое время, и микроскоп начал входить в обиход ученых.
Разнообразнейшие инфузории, коловратки и прочая мельчайшая живность замелькала
перед глазами изумленных наблюдателей. Эти крохотные существа были так многочисленны
и разнообразны, что глаза исследователей разбегались.
Микроскоп Левенгука (вид спереди, сбоку и сзади). |
И — это было самое главное
— все кишело этими существами. В навозе и в воде, в воздухе и в пыли, в земле
и в водосточных желобах, во всяких гниющих веществах,
словом, всюду были эти «микробы», как тогда называли все микроскопически
малые существа.
Откуда они?
Стоило положить в воду клочок сена, и через несколько дней сенной настой
кишел инфузориями. Они плавали в нем прямо-таки стадами. А помимо них в
настое кишели
мириады уж совсем крохотных существ.
— Они произошли из гниющих остатков сена,— заявил ирландский аббат Нидгэм.
— Они зародились из него.
— Они произошли из неживого,— вторил ему блистательный француз граф Бюффон.
Ученые разделились на два лагеря, кричали и шумели, обвиняли друг друга
кто в безбожии, кто в излишнем преклонении перед авторитетами, кто — в
чем придется.
— Какие могут быть яйца у этих существ? Они сами меньше любого из яиц!
— Яйца не летают по воздуху, а они летают.
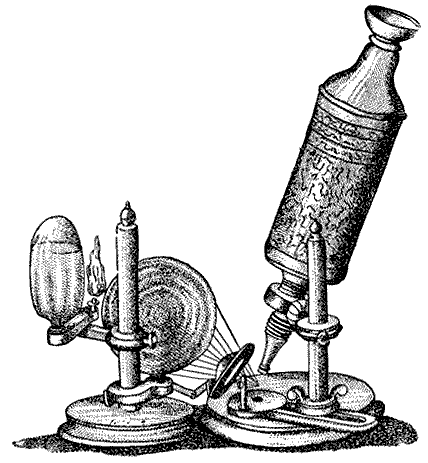
Микроскоп Гука.
— Вздор! Яйца есть! Еше знаменитый Гарвей сказал: всё из
яйца.
— Сказал, да не про них. Он про кур и других птиц это сказал.
— Чем кричать, лучше докажите!
Когда дело дошло до доказательств, то встретились представители трех стран:
Англии, Франции и Италии. С одной стороны были француз Бюффон и ирландец
Нидгэм, с другой — итальянец аббат Спалланцани.
Лаццаро Спалланцани было всего пятнадцать лет, когда он попал в Реджио,
в руки иезуитов. Они обучили его философии и другим наукам, и, видя
способности юноши,
стали соблазнять его блестящей карьерой на поприще иезуита. Неблагодарный
ученик — с ним столько возились! — отказался от этой чести и отправился
в
Болонью.
На это у него были особые соображения. Дело в том, что в Болонском
университете профессором математики и физики была его кузина — знаменитая
Лаура Басси.
Лаура была очень учена, а легкость, с которой она решала самые затруднительные
вопросы,
удивляла иностранных профессоров.
Лаццаро широко использовал счастливый случай и так изучил математику
под руководством Лауры, что его диспут закончился громом рукоплесканий.
Профессора-старики
с
ума посходили от восторга. Некоторые
из них тут же передали ему своих частных учеников. То была трогательная
картина.
Отец Лаццаро был юристом, и, по обычаю, юноша должен был заняться той
же профессией. Лаццаро, как послушный сын, принялся было за изучение
юридических
наук, но
они не понравились ему.
— Скучно! — заявил он, прочитав несколько толстых томов в кожаных переплетах.
Лаццаро занялся естественными науками, а чтобы родители не очень уж
ворчали (родительским благословением он дорожил), заодно поступил и
в монахи.
Вскоре аббат Спалланцани стал профессором. Он читал лекции в Тоскане,
Модене и Павии, путешествовал по Апеннинам, Сицилии и другим местам,
сделал визиты
не только австрийскому королю, но и турецкому султану. Он изучал все,
начиная от рикошетов брошенных по воде камешков и кончая восстановлением
отрезанных
кусков тела у дождевого червя. Сделав несколько открытий, он так увлекся
естествознанием, что превратился в страстного натуралиста-исследователя.
Его не привлекала систематика животных, и он не старался найти и описать
побольше новых видов. Распространение животных, их повадки, польза
и вред тоже не привлекали
особого внимания аббата-профессора. Физиология, эксперименты — вот
что его интересовало.
Спалланцани изучил кровообращение у лягушек, змей, ящериц и других
животных и узнал здесь немало нового. Долго мучил петухов — простых
и породистых,
стараясь постичь тайны пищеварения. Он не пожалел и самого себя: нужно
же знать, как
работает человеческий желудок. Чтобы получить немножко желудочного
сока, Спалланцани добывал его из собственного желудка.
Летучие мыши летают в темноте и ни на что не наталкиваются. Почему?
Любознательный ученый начал «проверять» летучих мышей. Он заклеивал
им глаза, прижигал
роговицу каленым железом, целиком удалял глазное яблоко. И слепой зверек
летал, минуя
все препятствия, которых на его пути оказывалось достаточно: аббат
заботился об этом.
Экспериментатор не смог ответить на вопрос: каким чувством руководствуется
летучая мышь, летая в темноте. Ясно было, что это не зрение. Но что?
Конечно, не слух, не обоняние, и уж подавно не вкус. Оставалось осязание.
И было
решено, что у летучих мышей осязание чрезвычайно сильно развито: они
могут осязать
даже на расстоянии. Ученый ошибся, но можно ли ставить это ему в вину?
Лишь спустя полтораста лет была раскрыта тайна летучей мыши. Оказалось,
что огромную
роль при ее полете имеют ультразвуки, своего рода «радарная установка»:
издавая ультразвуки (тончайший писк, недоступный нашему слуху), она
улавливает отражение
этих звуков (ультраэхо) и им-то и руководствуется при полете. Но зрение
также помогает летучей мыши в полете.
Аббат-натуралист был неутомимым исследователем и притом любил разнообразие.
Поработав над раскрытием тайн кровообращения и пищеварения, он занялся
изучением развития яйца. Эти исследования сулили множество интереснейших
открытий.
Правда, ученые XVII века уже раскрыли некоторые тайны размножения и
развития животных,
но все же именно здесь оставалось еще много неизвестного и еще больше
сказок.
Чем дольше работал Спалланцани в этой области, тем больше и больше
убеждался в том, что у всех живых существ должны быть родители.
— Именно — родители, — настаивал Спалланцани. — Ничто живое не зарождается,
не родится из ничего. Все живое от живого же, родится от подобного
себе же.
Микроскоп, открывший микромир, дал новое поле деятельности для нашего
исследователя. О, сколько всего замелькало под линзами его простенького
микроскопа, и
притом разнообразного, таинственного и главное — нового, нового и нового!..
Спалланцани увлекся этой работой. Кто знает, может быть, его интерес
и ослаб бы вскоре — ведь аббат-натуралист так любил новизну, — если
бы он
не прочитал
сочинения графа Бюффона.
Бюффон писал очень хорошо, но лабораторной работы не любил.
Работал и делал наблюдения над всякими «микробами» ирландец аббат Нидгэм,
а Бюффон, выслушав доклад Нидгэма, писал страницу за страницей. Это
было идеальное
сочетание двух талантов — писателя и наблюдателя.
Спалланцани не мог согласиться с мнением Нидгэма, не подействовало
на него и имя Бюффона — знаменитого натуралиста и писателя.
— Как? У мельчайших существ нет родителей? Они родятся из настоя сена?
Микробы зарождаются из какой-то бараньей подливки? Вздор!
Спалланцани резко махнул рукой.
— Вздор! — повторил он.
Сказать «вздор» легко. Мало ли кто кричал «вздор!» по адресу своего
научного противника. Но слов мало — нужно доказать.
И вот Спалланцани увлекся новым делом: занялся поисками родителей микробов.
Пожалуй, ни одно учреждение в мире не разыскивало родителей брошенного
ребенка с таким старанием, с каким аббат искал этих родителей микробов.
А они — словно
на смех — никак не давали вывести себя на чистую воду.
— Неужели ж так и останетесь сиротками? — горевал аббат. — Нет, этого
не будет.
Спалланцани изменил тактику. Вместо того чтобы доказывать, что микроб
может быть родителем, вместо того чтобы искать неуловимых родителей,
он сделал
наоборот. Нет микробов-родителей — нет и детей.
— Микробы заводятся во всяких настоях? Они заводятся в бараньей подливке?
Родятся из нее? Ладно! Я сделаю так, что они не будут там родиться.
Я не пущу туда
их родителей.

Лаццаро Спалланцани (1729—1799).
Баранья подливка особенно рассердила горячего аббата. Именно
она-то и выводила его из себя.
— Почему баранья подливка? Почему именно баранья? — с негодованием
восклицал он, уставившись на котелок, в котором жирным блеском
переливалась подливка.
Он кипятил и подогревал ее на всякие лады. Ему как будто удавалось
уничтожить в ней всякие признаки жизни, ко стоило подливке постоять
день-другой,
и микробы начинали разгуливать в ней целыми стадами. Мутные облачка
покрывали жидкость,
еще вчера такую искристую и чистую с поверхности. Хорошо еще, что
у микробов нет языков, а то, чего доброго, Спалланцани увидел бы
в свой
простенький
микроскоп-лупу, как они ехидно высовывают ему языки и дразнят его:
«Что? А мы здесь, мы здесь, мы здесь...»
Спалланцани горячился и волновался, десятками бил пузырьки и бутылочки,
но не сдавался.
— Они попадают туда из воздуха, — мрачно бурчал он, разглядывая
очередную порцию подливки. — Они носятся в пыли...
Он пробовал затыкать пузырьки пробками. Но что такое пробка для
микробов? Эти маленькие каверзники находили в пробке такие ворота,
что сотнями
валились в
злосчастную подливку.
Спалланцани так увлекся войной с микробами, что начал смотреть
на них, как на злейших своих врагов. Он потерял сон и аппетит,
все мысли
его
вертелись около микробов и подливки.
И вот в одну из бессонных ночей у него мелькнула блестящая мысль.
Он не стал дожидаться утра, вскочил, оделся и побежал в свою лабораторию.
Идея Спалланцани была очень проста: нужно запаять горлышки бутылок.
Тогда уж никаких отверстий не останется, не пролезут эти проныры-микробы
в
подливку.
Работа началась. Спалланцани наполнял бутылочки подливкой, подогревал
их, — какие несколько минут, а какие и по полчаса, — затем на огне
расплавлял их
горлышки и стеклом запаивал отверстие. Он обжигал руки, бил бутылочки,
заливал пол и себя подливкой.
Рассвет застал Спалланцани в лаборатории. С десяток бутылочек стояло
в ряд на столе. Их горлышки были наглухо запаяны.
— А ну! — щелкнул пальцем по одной из бутылочек аббат. — Проберитесь-ка
сюда!
Не без робости начал он исследовать содержимое бутылочек через
несколько дней. А что, как и в них микробы?..
Подливка в бутылочках, прокипяченных долгое время, оказалась прозрачной.
Ни одного микроба! Спалланцани был в восторге.
Но чем дальше продвигалась работа, тем больше вытягивалось его
лицо.
В бутылочках, которые кипятились по четверть часа, микробов было
мало, но они были. А в бутылочках, которые кипятились всего по
нескольку минут, они
кишели
целыми стадами.
— Может быть, я не очень быстро запаивал? — усомнился Спалланцани.
— Повторим...
И тут же решил изменить подливке: очень уж опротивел ему этот въедливый
запах. Он изготовил разнообразные настои и отвары из семян. Теперь
в лаборатории запахло аптекой.
Снова бурлили настои, снова лилась жидкость в бутылочки, снова
жег руки Спалланцани, снова на столе выстраивались ряды запаянных
бутылочек.
И
снова — через несколько
дней — повторилась прежняя история. В бутылочках, подогревавшихся
недолго, были микробы.
— Ба! — аббат хлопнул себя по лысине. — Ну и дела! Да ведь это
новое открытие. Есть микробы, которые выдерживают нагревание в
течение
нескольких минут.
Они не умирают от этого...
Спалланцани весело засмеялся, довольно потер руки и уселся за стол.
Он писал возражение Бюффону и Нидгэму.
Возражение было длинно, полно ехидства и насмешек. Оно в корне
уничтожало все «теории» Бюффона и Нидгэма.
«Микробы не зарождаются из настоев и подливок. Они попадают туда
из воздуха. Стоит только прокипятить в течение часа настой и запаять
бутылочки,
и
там не появится ни одного микроба, сколько бы времени настой ни
простоял», — вот основные
мысли возражения Спалланцани.
К аббату вернулся аппетит, а его сон стал крепок и безмятежен:
тайна родителей микробов была как будто раскрыта.
..........................................................................................................................................................................
— Ваша светлость! — вбежал в кабинет Бюффона Нидгэм. — Профессор
Спалланцани возражает. Он доказывает, что... — И Нидгэм рассказал
содержание возражений
Спалланцани.
— Гм... — задумался Бюффон, теребя кружевной манжет. — Гм...—
повторил он и понюхал табаку. — Хорошо... Я обдумаю это. А вы
озаботьтесь
выяснением вопроса
— могут ли микробы зародиться в бутылочках Спалланцани.
Нидгэм, ловкий экспериментатор, сумел уловить смысл сказанного.
— Он нагревал, он кипятил... — шептал аббат-ирландец, потирая
нос.
— Он нагревал по часу и дольше... Он... Так! — вскрикнул
Нидгэм.
Бюффон вздрогнул и укоризненно посмотрел на аббата:
— Можно ли так кричать?
— Ваша светлость! Ваша светлость! — голосил восторженный Нидгэм.
— Все хорошо! Пишите...
Бюффон схватил перо, обмакнул его в чернила и навострил уши.
— Пишите: у Спалланцани и не могло ничего получиться в его настойках,
— захлебываясь, говорил Нидгэм. — Почему? А очень просто. Он
своим нагреванием убил ту «производящую
силу», которая заключалась в настойке. Он убил силу жизни. Его
настои стали
мертвы, они ничего не дали бы и без всяких пробок и запаиваний.
Нидгэм говорил, а Бюффон быстро строчил. Когда он записал все
нужное, то распрощался с Нидгэмом. Теперь он мог писать и один:
материал
у него имелся.
Ответ Бюффона и Нидгэма был напечатан. В нем говорилось и о нагревании,
и о том, что воздуха в бутылочках Спалланцани было слишком мало,
что самозарождение микробов в таких условиях не могло произойти,
и многое
другое. Спалланцани
долго вчитывался в пышные фразы бюффоновского произведения. И
он уловил главное:
в бутылочках было мало воздуха.
Нидгэм был прав: воздуха было мало. Горлышки у бутылочек были
широкие. При запаивании приходилось сильно нагревать бутылочку.
Нагревалось
стекло, нагревался
находящийся в бутылочке воздух. А нагреваясь, расширялся, и часть
его выходила наружу. Отверстие горлышка было широкое и запаивать
его приходилось
не
одну минуту. Бутылочка не остывала: Спалланцани запаивал ее горячей.
Воздух в
запаянной бутылочке был разреженный. Нидгэм оказался прав: такая
обстановка мало пригодна
для самозарождения. Какая там жизнь в разреженном воздухе! Спалланцани
изменил тактику. Он не запаивал бутылочку сразу, а вытягивал
ее горлышко в трубочку.
Оставлял на конце малюсенькое отверстие и затем уж подогревал
и кипятил. Потом он давал бутылочке остыть и только после этого
запаивал
отверстие.
Оно было
совсем крохотное, и при запаивании его бутылочка не успевала
нагреться. Теперь во время остывания в бутылочку входил наружный,
неперегретый
воздух. Его
было достаточно: главное условие самозарождения соблюдено.
И все же микробы не появлялись. Правда, при условии, что настой
был хорошо прокипячен.
Снова писал Спалланцани возражение, и снова Бюффон отвечал ему.
В споре принял участие и Вольтер. Микробы, настойки и вся эта
возня с ними
его мало интересовали,
но разве он мог упустить случай лишний раз съехидничать?
— А не кажется ли вам, господа, — обратился он к Бюффону и Нидгэму,
— что ваши разговоры о самозарождении несколько странны? Ведь
по библии-то оно
не так
выходит. Идти же против библии аббату не совсем удобно.
Нидгэм не сумел ответить великому насмешнику, а мог бы сказать
ему: «Разве вы не знаете, что повар никогда не ест состряпанного
им самим
тонкого
блюда?»
«Производящая сила» — это было очень туманно, зато звучало внушительно.
Производящая сила. Конечно, нет ее — не будет и живого, если...
если верить в такую чепуху.
Производящая сила в скором времени превратилась в «жизненную
силу» — таинственную силу, свойственную всему живому. Именно
она-то и
несет с
собой жизнь; нет
ее — нет и жизни, перед нами мертвая материя. Жизненная сила
— она же производящая сила — оказалась на редкость непрочной:
стоило
полчаса
кипятить
настой,
и она
исчезала. Правда, не навсегда, и это было самое занятное. Нужно
было лишь открыть доступ к настою воздуху, и «сила» появлялась
снова,
доказательством чего служили
«зародившиеся» микробы. Вот здесь-то перед исследователем и возникало
непреодолимое
затруднение. «Ты убил жизненную силу, — говорили ему. — Как же
хочешь ты видеть самозарождение? Без жизненной силы оно невозможно».
Что
тут делать?
Стерилизовать
настой, уничтожить в нем микробов и их зародыши необходимо: останься
в живых хоть один микроб или «зародыш», и — где же самозарождение?
Уцелевший микроб
размножится, вот и все. Но стерилизация, говорят, убивает не
только микробов, но и «жизненную силу».
«Производящая сила» очень помогла Бюффону и Нидгэму. Чем дольше
затягивался спор, тем труднее становилось итальянцу. Очень уж
мудрено писал Бюффон:
его красивые фразы были звучны, но очень туманны. Привыкшему
к точности изложения
и описания фактов Спалланцани никак не удавалось толком понять,
что сказал знаменитый француз-натуралист. Он хватался то за одно,
то
за другое место
в книге Бюффона, но эти места словно вырывались из его рук.
Как возражать? Как попасть в цель, если перед тобой туманное
пятно?
Спор остался неразрешенным.
Прошло много лет, и «жизненную силу» сменило «живое вещество».
Простейший организм не зарождается, не возникает сразу из неживого:
между ним
и неживой материей
— живое вещество. При определенных условиях из него возникает,
зарождается простейший организм, появляется существо.
Как проследить это, как показать и доказать, что это бывает?
Без стерилизации не обойдешься: иначе увидишь мириады микробов,
и притом
отнюдь не самозародившихся.
Но... стерилизация, уверяют, убивает не только микробов, но и
живое вещество. Нужно найти такой способ стерилизации, чтобы
всякого
рода бактерии, их
споры (а они особенно стойки), да, конечно, и вирусы были полностью
убиты, а живое
вещество осталось живым. Его не нашли еще, такого способа, а
пока не нашли — спор остается неразрешенным. Слова, как бы умны
и красивы
они
ни были,
не помогут: нужны дела — факты.
* * *
Невозможность произвольного зарождения «микробов» доказывал не
только Спалланцани. Его союзником оказался русский ученый
— Мартын Матвеевич
Тереховский (1740—1796).
Обучившись медицине в Санкт-Петербургском генеральном сухопутном
госпитале, он был в 1765 году произведен в лекари. Несколько
лет лекарской работы
показали Тереховскому, что его знания, полученные в госпитале,
недостаточны. Он решил
поехать за границу, чтобы изучить медицинские науки там.
Очевидно, лекарь не надеялся, что его отправят УЧИТЬСЯ за
счет казны,
а потому просил
разрешения поехать «за свой счет». Разрешение дали, хотя
и в особой форме: Тереховскому
пришлось выйти в отставку. В 1770 году он уехал в Страсбург.
В Страсбургском университете, славившемся своей медицинской
школой, Тереховский четыре с половиной года изучал врачебное
искусство.
Здесь же он написал
и защитил докторскую диссертацию и получил Диплом доктора
медицины.
Диссертация была, как обычно делалось в те времена, написана
на латинском языке и называлась «Зоолого-физиологическая
диссертация о наливочном
Хаосе Линнея».
«Наливочный Хаос» — мало понятное в наши дни название. В
своей системе животных Линней назвал «Хаосом» раздел, в который
отнес
самые разнообразные
существа:
общим у них было одно — микроскопически малая величина.
Многие из этой мелюзги заводились во всякого рода «настоях»,
иначе — «наливках», отсюда — «наливочные», те животные, которых
мы теперь
называем
простейшими.
Инфузории, один из классов простейших, в переводе на русский
язык означает «наливочные» (по-латыни «инфузум» означает
— настой, настойка,
наливка).
Русский медик проделал множество опытов и наблюдений. Он
установил, что «наливочные тельца» двигаются и что движения
их собственные,
что это
— организмы, пусть
и очень малых размеров. Он установил и другое: «наливочные
тельца» есть животные; «... двигающиеся наливочные существа
— это не
неодушевленные тельца и не
органические молекулы среднего и хаотического царства, а
истинные мельчайшие животные».
Оставалось выяснить: откуда берутся эти крошки во всякого
рода настоях?
Тереховский работал спокойно и методично. Он не горячился,
не жег себе пальцы и не сажал жирных пятен на платье. Не
проклинал «микробов»,
не бранил Нидгэма
и Бюффона. Наверно, он не страдал бессонницей и если не всегда
сытно ел, то не из-за отсутствия аппетита, а просто потому,
что
денег у
него
было
очень мало.
Он имел дело только с простейшими животными: инфузориями
и жгутиковыми. Наблюдая их, Тереховский заметил, что они
появляются
в настоях
из семян, плодов, трав.
Он не смог бы назвать виды этих «анималькулей», или «зверюшек»
(«анималькули» — уменьшительное от латинского слова «анималия»
— животное, «анималькуля»
— очень маленькое животное, в вольной передаче — «зверюшка»),
— в те годы наука
их еще не различала, — но заметил, что в разных настоях они
иногда бывают разные.
Он был очень дотошным, этот врач-украинец: принялся выяснять,
в чем тут дело. Оказалось, что причина в воде. Можно изготовить
настой
из гороха
или миндаля,
из листьев желтофиоли или цветка гвоздики, и состав «зверюшек»
будет
одинаковым во всех этих настоях при условии, что они изготовлены
на одной и той же
воде.
Вывод напрашивается сам собой: «зверюшки-анималькули» попадают
в настои вместе с водой. В этом не было бы ничего удивительного.
В
природе эти
крошки живут
именно в воде: болотной, прудовой, речной, озерной, морской,
даже колодезной.
Однако был и еще один путь попадания в настои: воздух. Опыты
показали, что при высыхании воды «зверюшки» погибают. Очевидно,
воздушный
путь был маловероятен.
Вода вызывала наибольшие подозрения, и Тереховский принялся
ставить опыты именно с водой.
Для начала он взял чистую воду — сырую и кипяченую — и держал
сосуды с ней открытыми, поставив их рядом в комнате. В сосуде
с сырой
водой «зверюшки»
появились, кипяченая вода осталась незаселенной. Но когда
к ней прибавили сырой воды,
то «зверюшки» появились и в этом сосуде.
Проделав ряд опытов с водой, Тереховский пришел к убеждению,
что в водяные настои «зверюшки» попадают именно с сырой водой.
Чтобы
доказать
это,
были проделаны новые опыты.
Были изготовлены настои на трех сортах воды: сырой, прокипяченной
и ледяной (талой). В сосуде с сырой водой «зверюшки» появились,
в прочих
— нет.
Тогда Тереховский взял настой, в котором кишели «зверюшки»,
и разлил его в две посудины. Одну из них нагрел выше 35 градусов,
другую
так охладил, что
вода в ней превратилась в лед. В обеих посудинах «зверюшки»
погибли.
И
хотя сосуды — одни с остывшей, а другие с талой водой — простояли
очень долго,
ничего в них не появилось.
Хорошенько проварив траву, Тереховский залил ее сырой и кипяченой
водой. В банке с сырой водой «зверюшки» появились, в другой
банке их не было,
хотя она
и простояла много дней.
Чай, заваренный обычным способом, — чем не настой? Был проверен
и он: ведь это так просто — налить стакан горячего чая и
оставить его
стоять.
В чае никто не «завелся».
Тереховский проделал множество опытов, и все они показывали
одно и то же: «зверюшки» попадают в настои с сырой водой.
Нет их в
воде —
нет и
в настое.
Никакого самопроизвольного зарождения!
Не все было хорошо в опытах Тереховского. Он был уверен,
что «зверюшки» не могут попасть в настои из воздуха, и его
опыты
как будто доказывали
это.
Но мы-то знаем теперь, что это не так. Они не попадали в
сосуды Тереховского просто
потому, что сосуды стояли в комнате, да еще, по-видимому,
зимой. Известно, что в воздухе цист простейших вообще очень
мало:
одна, две, три в кубическом
метре воздуха. И это — в природе, летом. Стой сосуды месяцами,
может быть, в них что-нибудь и попало бы из воздуха, но месяцами
они не
стояли.
На листьях, на траве, даже на сене есть цисты инфузорий.
И всякий школьник знает, что в сенном настое появляются туфельки
и другие
инфузории.
Но во времена Тереховского о цистах простейших ничего толком
не знали.
Для своего времени Тереховский убедительно доказал, что «анималькули»
(инфузории и другие микроскопически малые животные) не заводятся
сами собой, не зарождаются
в настоях, а попадают в них с водой. Он не все сказал, как
и Спалланцани, но ведь не довел всего до конца и Луи Пастер
сто
лет спустя.
М. М. Тереховский был скромен. Он издал свою замечательную
работу в 1775 году в Страсбурге, но мало позаботился, чтобы
его диссертация
получила
широкую известность.
И об ученом забыли. В десятках книг можно прочесть о споре
Спалланцани с Нидгэмом и Бюффоном, но редко увидишь имя М.
М. Тереховского.
А ведь
он не
только на
словах уверял, что у микробов должны быть родители. Он доказал
это на опыте — был одним из первых натуралистов, пошедших
по пути не
рассуждений, а
опыта, эксперимента.
Мы можем с гордостью сказать: если на Западе был Спалланцани,
то у нас в те же годы был М. М. Тереховский.
Спор Спалланцани с Бюффоном и Нидгэмом не прошел бесследно: после него осталось
несколько книг.
В библиотеке герцога цвейбрюккенского Христиана IV были эти книги, а на
герцогской кухне изучал кулинарное искусство некий Франсуа Аппер. Однажды
он случайно
услышал разговор о споре Спалланцани и Бюффона. Для его поварского уха мало
интересен был вопрос о самозарождении и производящей силе, а микробы не дичь,
из которой можно состряпать паштет. Но «баранья подливка» — подходящее слово
для повара.
Апперу было не до подливки в те времена. Но позже, когда он сделался кондитером
в Париже, где ему приходилось изобретать всё новые и новые блюда, он вспомнил
про эту подливку.
«Не зря же в книге ученого говорится про подливку. Может быть, там есть новый
рецепт», — подумал он.
Походил, поспрашивал и раздобыл книги Спалланцани и Бюффона. В книгах Бюффона
он мало что понял, да там и не было ничего для него интересного. А вот у
Спалланцани.
Аппер прочитал раз, прочитал два, прочитал три... снял белый колпак и вытер
вспотевший лоб. Прочитал еще раз...
Было в книге одно место, которое сильно заинтересовало повара.
«Микробы не заводятся в прокипяченной и помещенной в запаянную бутылочку
подливке», — в сотый раз повторял он, пытаясь понять странные слова.
— Что это значит?
Назойливая мысль билась в его мозгу, но оформить эту мысль никак не удавалось.
Он купил книгу Спалланцани, читал ее утром, читал вечером и — наконец-то!
— понял: подливка в запаянных бутылочках не прокисала по многу дней.
— Если так, то ведь не только подливку, но и суп, и жаркое, и паштет можно
хранить месяцами!
Аппер даже побледнел — так велико было его открытие!
С этого дня повар превратился в экспериментатора. Он был практичнее Спалланцани
и не стал жечь пальцы о стеклянные бутылочки и колбы, а взял жестянки. Аппер
совсем не интересовался, хватит ли воздуха для развития микробов, он не проверял
Бюффона и Нидгэма, ничего никому не доказывал, никого и ничто не опровергал.
Он просто хотел... изготовить консервы.
Аппер наполнял жестянки вареным или жареным мясом, запаивал их, опускал в
воду и кипятил час-другой. Повар не очень гнался за временем — пусть покипят
получше,
— но следил за температурой и грел воду на совесть: в ней было не меньше
100 градусов, и она кипела белым ключом.
Изготовив несколько десятков жестянок, Аппер оставил их стоять. Тот месяц,
что они простояли, повар был сам не свой. Уже на второй неделе ему так захотелось
вскрыть жестянки, что он едва смог удержаться от этого. Кончилось тем, что
Аппер запер жестянки в сундук, а ключ отнес приятелю:
— Не отдавай мне ключа раньше, чем через две недели. Ни за что не отдавай!
Через несколько дней Аппер попытался взять ключ у приятеля. Тот оказался,
однако, крепким парнем: нетерпеливый кондитер получил такой тумак, что на
второй преждевременный
визит не отважился.
Наступил роковой день. Аппер сбегал к приятелю, получил ключ, отпер сундук
и вынул жестянки. Дрожащими руками вскрыл одну из них, вывалил мясо на тарелку,
поглядел, понюхал, попробовал. Мясо было хоть куда. Правда, оно попахивало
жестью, но это же пустяки.
Аппер не спешил опубликовать свое открытие. Он ставил опыт за опытом, запаивал
в жестянки то одно, то другое, грел их то так, то этак, хранил их то месяц,
то два, а то и дольше.
И когда картина стала ясна, он сообщил о своем изобретении в Общество поощрения
искусств в Париже. Не думайте, что это общество занималось только искусствами
(в том числе и поварским): оно занималось и науками.
Общество заинтересовалось изобретением повара, но на слово ему, понятно,
не поверили. Была избрана особая комиссия, которая, как это ни странно, тотчас
же приступила к работе. Впрочем, если вспомнить, что было все это в годы
Наполеона,
вспомнить, что профессией его была война, и принять во внимание, что консервы
для войны — вещь небесполезная, то мы не удивимся столь необычной рьяности
комиссии. Наполеон не любил шутить, а его гнев мог пришпорить любую комиссию.
Итак, почтенная комиссия открыла свои заседания. Изобретение кондитера было
подвергнуто всестороннему обсуждению (попутно поговорили и немножко поспорили
о самозарождении), а потом приступили к опытам. Без малого девять месяцев
длилась работа комиссии. Это был очень небольшой срок.
В жестянки запаяли мясо с подливкой, крепкий бульон, зеленый горошек, бобы,
вишни и абрикосы.
Прошло восемь месяцев.
Комиссия собралась в полном составе. На большом столе красовались жестянки,
лежали ложки и вилки, тарелки и хлеб. Одну за другой осмотрели и вскрыли
жестянки, одно за другим появились на столе блюда. Это был почти полный обед:
суп, жаркое,
зелень и фрукты. Вино стояло в обычных бутылках, заткнутых обычными пробками.
— Прошу, господа! — радушно пригласил членов комиссии председатель. — Стол
накрыт!
Члены комиссии замялись. Жутко, ох, как жутко пробовать загадочную стряпню!
Наконец нашелся смельчак. Он начал обед с конца: поддел на вилку вишню, понюхал,
осторожно прикоснулся к ней губами. Храбрец заметно побледнел, и рука его
дрогнула. И вдруг отчаянным движением он сунул вишню в рот, прижал ее языком,
и... лицо
его расплылось в улыбке.
Вишня была вполне съедобна!
Член комиссии походил теперь на ребенка, который, думая, что ему дали касторки,
проглотил ложку варенья.
Пример подействовал и на окружающих. То один, то другой пробовал вишни —
опыт показал, что они безопасны, — а потом принялись за абрикосы, за ними
последовала
зелень: горошек и бобы. И только перепробовав все менее «страшное», члены
комиссии перешли к бульону и жареному мясу.
Запив бульон стаканчиком доброго вина, председатель крякнул, расправил усы,
обтер бороду, в которой застряла горошинка, и сказал:
— Мнение почтенной комиссии?
— Превосходно! Замечательно! — посыпались восклицания.
А один из членов комиссии, за суматохой не успевший пообедать дома «по-настоящему»,
пробормотал:
— Нельзя ли еще? Маловато на всех пришлось. Не распробуешь... Это было, пожалуй,
лучшим отзывом.
Аппер получил от Наполеона премию в двенадцать тысяч франков: сумма порядочная
по тем временам.
Через год он написал руководство — «Искусство консервировать все растительные
и животные продукты». Имя скромного повара попало в историю — он завоевал
бессмертие.
Аппер построил консервную фабрику. Его товар быстро пошел в ход. Повар разбогател.
В своем отеле он повесил в самой лучшей комнате большой портрет Спалланцани.
Книга ученого аббата была переплетена в прекрасную баранью кожу (опять баранью!
И после смерти она не оставила в покое Спалланцани!). Переплет должен был
напоминать повару о знаменитой подливке. Свою любимую собаку он назвал Лаццаро.
Как видите, повар не был неблагодарным человеком.
И горячий Спалланцани, и точный аббат Нидгэм, и сиятельный граф Бюффон умерли.
Их споры отшумели, их книги стояли на полках, их бутылочки давным-давно были
выброшены на задние дворы. Спор о самозарождении остался неразрешенным: всякий
оказался при своем. Спалланцани не разгромил Бюффона и Нидгэма, а они не
поколебали веры итальянца в невозможность самозарождения.
Реальный результат споров все же был. Повар Аппер извлек из него то, что
извлекает всякий практичный человек из споров непрактичных ученых. В данном
случае он
научился готовить консервы.
Так наука о микробах впервые с недоступных высот теории спустилась на землю
и получила практическое применение.
Знаменитый химик Гей-Люссак несколько дней, с утра до вечера, не разгибаясь
просидел в своей лаборатории. Он делал анализ газов, находящихся в жестянках
с консервами Аппера.
Кислорода там не оказалось.
— Нидгэм был прав, — прошептал химик. — Без кислорода нет горения, нет
дыхания, нет жизни. Воздух здесь изменен. Нет ничего удивительного в том,
что в консервах
нет самозарождения.
Гей-Люссак был очень пунктуален в своих исследованиях. Он решил проверить
сделанное наблюдение: действительно ли кислород уж так необходим для микробов?
Он наполнил ртутью стеклянную трубку, запаянную с одного конца. Прижал пальцем
открытый конец, перевернул трубку и опустил ее в чашку со ртутью. Там, под
ртутью, он отпустил палец. Немного ртути вытекло, в верхней части трубки
образовалось безвоздушное пространство. Это было помещение для микробов,
которых намеревался
поселить здесь хитроумный химик.
Несколько ягодок винограда легли на поверхность ртути в чашке. Они не утонули
в тяжелой ртути и плавали по ней, как плавает пробка на воде. Гей-Люссак
проволочной петелькой протолкнул ягоды сквозь ртуть, втолкнул в стеклянную
трубку и раздавил
их там. Сок всплыл над ртутью и занял верхнюю часть трубки.
Шли дни. Трубка стояла в чашке, в трубке мерцал виноградный сок, ниже поблескивала
ртуть. Микробы не заводились.
Тогда Гей-Люссак впустил туда пузырек воздуха. Он прорвался сквозь, ртуть,
мелькнул в виноградном соке, лопнул и исчез.
И сок начал мутнеть. Микробы появились.
— Какие микробы могут быть в таком маленьком пузырьке воздуха?— спрашивали
сторонники самозарождения и сами себе отвечали: — Ведь если бы их там было
столько, то кругом нас был бы не воздух, а жидкий кисель.
Спор Спалланцани и Нидгэма возродился.
Не стоит подробно говорить обо всех спорщиках: их было много. Среди них встречались
и упрямые головы, а были и столь простодушные, которые, повозившись с разными
опытами, заявляли начистоту: «Я не знаю...»
С этим «я не знаю» и дожили до 1860 года.
Незадолго до этого боевого года на сцену выступил новый спорщик: руанский
ученый Феликс Пуше. «Феликс» в переводе на русский язык означает «счастливый».
Пуше
и правда повезло. За свое сочинение об оплодотворении у млекопитающих он
получил от Французской Академии наук премию в десять тысяч франков.
Пуше не подумал о том, что раскусить такой «орешек», как загадка самозарождения,
нелегко. Его самомнение возросло после премии: ведь его научный гений увенчала
«сама» академия. Знай он, с кем ему придется встретиться, Пуше, может быть,
и не взялся бы за это дело. Но он ничего не знал, ничего не предвидел и хотел
только одного — новой славы.
— Самозарождение вполне возможно, — заявил Пуше. — Но оно не начинается ни
с того ни с сего. Новые организмы могут заимствовать для построения своего
тела только вещества, входящие в состав трупов других умерших организмов.
Под влиянием брожения или гниения органические частицы распадаются. Проблуждав
некоторое время на свободе, эти частицы снова складываются в силу присущей
им способности. Появляются живые существа.
Эти мысли нашли немало сторонников. В самом деле, Пуше очень ловко подошел
в разрешению вопроса. Он так затемнил дело своим брожением и гниением, что
все случаи, когда «самозарождения» не наблюдалось, было очень легко объяснить
именно отсутствием брожения или гниения.
— Апперовы консервы гниют? Нет! А раз нет гниения, нет и самозарождения,
— с апломбом заявляли сторонники Пуше.
Гниение и брожение есть результат деятельности тех или иных микроорганизмов
— бактерий, грибков. В гниющих и бродящих веществах эти организмы всегда
кишмя кишат. Вот и разберись, кто они. Самозародились они или нет? А нет
их — нет
и гниения. Нет, значит, необходимого условия и для самозарождения.
Бедняжка Реди! Сколько сил он потратил на выяснение того, заводятся ли мушиные
личинки в гнилом мясе. И вот, через столько лет, ученые вернулись к тому
же куску гнилого мяса. Правда, они заменили больших мушиных личинок крохотными
микробами. Но разве изменилось от этого дело? Нет, нет и нет! Реди просто
глядел
на кусок мяса, ученый середины XIX века щурился в трубку микроскопа. В этом
только и заключалась разница.
Пуше уверял, что он наблюдал, как в сенном настое «зарождаются» ни много
ни мало... инфузории парамеции. Он подробно описал свои наблюдения, проследил
шаг за шагом это замечательное событие. Впрочем, увидеть подробности «самозарождения»
туфельки-парамеции в сенном настое может любой школьник. Разница в небольшом:
в объяснении увиденного.
Школьник знает, откуда взялись туфельки в сенном настое, знает, что никакого
самопроизвольного зарождения здесь нет. Пуше утверждал обратное. Его не смущало,
что «зародившаяся» из гниющей настойки туфелька чудесным образом оказывается
сразу приспособленной. Она, чрезвычайно сложный организм, пусть и одноклеточный,
словно чертик в коробочке, купленной в игрушечной лавке, «выскакивала» вполне
«готовой».
Удивительно не это, а то, что без малого через сто лет (еще сто лет!) нашлись
люди, поверившие в точность наблюдений Пуше.
— Микроскопические существа самопроизвольно зарождаются в гниющих настоях,
— уверяли Пуше и его сторонники.
— Ну да! — возражали противники. — Мало ли зародышей бактерий и других микроорганизмов
в ваших настоях! Стерилизуйте их, и тогда посмотрим.
— Стерилизовать? Убивая микробов, мы убьем и то живое вещество, за счет которого
происходит возникновение новых организмов. Такие настои мертвы, и ждать от
них нечего.
Старая история! Те же слова слышал Спалланцани. Нечто схожее говорил и Примроз
о сообщении между желудочками сердца. Буква «р» ставилась на пути подлинного
исследователя: «пРоверить» нельзя, можно только «поверить».
Спор обострялся. Он мог бы продолжаться до бесконечности, но Парижской Академии
наук надоели все эти споры. Она вынесла свое мудрое решение: объявила конкурс
и назначила премию за безусловное разрешение «проклятого вопроса».
«Никакие неясности в постановке опытов не должны затемнять результатов опытов».
Этим путем академия рассчитывала избавить себя от рассмотрения всяких вздорных
опытов и выслушивания легковесных докладов.
На заседаниях академии снова настала желанная тишина. Старички подремывали,
просыпаясь и открывая глаза как раз с последним словом докладчика. И как
только слышали привычное: «Наш коллега... сообщит нам о...», снова склоняли
головы.
Докладчик шамкал, старички дремали. Было хорошо, тихо, уютно...
Яростные спорщики притихли. Они засели по своим лабораториям и работали.
Получить премию всякому было лестно.
Кто знает, как долго длился бы покой старичков академиков, если бы их не
растормошил, и притом довольно бесцеремонно, Луи Пастер. Он начал угощать
их докладом за
докладом.
Узнав о конкурсе, Пастер тотчас же принялся за работу.
«Глупцы! Они думают, что если в воздухе не видно микробов, то их там и нет.
Как бы не так!»
И Пастер занялся ловлей микробов.
Он продырявил оконную раму в своей лаборатории и вставил в дыру стеклянную
трубку. Один конец трубки высовывался наружу, другой торчал в комнате. В
трубку был положен кусок ваты. Приладив к трубке насосик, Пастер начал протягивать
с его помощью через трубку наружный воздух. Он проходил через трубку, а все,
что в нем было, застревало в вате.
Через двадцать четыре часа вата стала заметно грязноватой. Тогда Пастер взял
часовое стеклышко, капнул на него воды и опустил в воду ватную пробку из
трубки. Затем выжал ватный комочек над другим стеклышком. Проделав эту операцию
несколько
раз, он смыл с ваты всю прилипшую к ней пыль.
— Ну, посмотрим, что тут есть, — сказал Пастер, взяв капельку воды с часового
стеклышка.
Он перенес эту капельку на стеклянную пластинку и пригнулся к микроскопу.
Тут были и споры грибков, и споры плесеней, и микробы, и их споры, и пыль
всех сортов, и многое другое.
— Они здесь! — сказал Пастер. — Половина задачи решена. Теперь он принялся
за вторую половину задачи: начал ловить микробов в колбы.
По части кипячения и обеззараживания всяких настоев и бульонов Пастер был
большим знатоком. Он налил в колбочку питательного бульона, прокипятил его,
потом оттянул
горлышко колбы в длинную трубку и запаял кончик. С такой колбой Пастер вышел
во двор и там обломил запаянный кончик. Воздух ворвался в колбу и внес в
нее микробов и их споры. Тогда Пастер снова запаял колбу.
Попавшие в ловушку микробы вскоре размножились, и на поверхности бульона
появились мутные облачка — тучи микробов.
Этого мало. Пастер захотел выяснить: в каком воздухе микробов больше. С колбами
в руках он лазил на высокие горы, поднимался даже на ледники Монблана, вяз
в болотах, бродил по берегу моря, спотыкался о корни и пни в лесу, основательно
изучил парижские помойки. Всюду он открывал и вновь запаивал колбы и вел
самый тщательней подсчет уловленным микробам. Добычи было где больше, где
меньше,
но в общем микробы встречались везде. Только ледники гор оказались очень
бедны ими: здесь Пастеру не всегда удавалось заманить в колбу хоть одного-единственного
микробика.
Итак, воздух богат микробами.
Тут Пастер вспомнил опыт Гей-Люссака с ртутью. Он повторил его, и в пробирке
появились микробы. Пропустил в пробирку прокаленный воздух — та же история.
— Гм... — нахмурился Пастер. — Здесь что-то не так! Остроумный исследователь
разрешил и эту задачу:
— Да они просто прилипают к ртути, а с нее попадают в трубку!
И правда, поверхность ртути была для микробов тем же, чем липкая бумага для
мух: они сотнями прилипали к ней.

Луи Пастер (1822—1895).
Пастер взял колбу с прогретым воздухом и прокипяченным настоем.
Бросил в нее капельку ртути: раз, два — и появились микробы. Тогда он прокалил
и
капельку ртути: ни одного микроба в колбе не оказалось.
Тайна опытов Гей-Люссака была раскрыта.
Однако до решения задачи было еще далеко. Мало доказать, что микробы
кишат в воздухе, мало доказать, что они прилипают к ртути. Нужно еще
доказать,
что именно они-то, попадая в колбу из воздуха, и вводят наблюдателя в
заблуждение.
«Прогрей воздух, убей в нем микробов — вот самый простой совет».
Нет, совет этот плох. Ведь еще Нидгэм утверждал, что прогретый воздух
не годится для жизни, а потому в нем и не может наблюдаться самозарождение.
Нужно брать
воздух непрогретый, и в то же время...
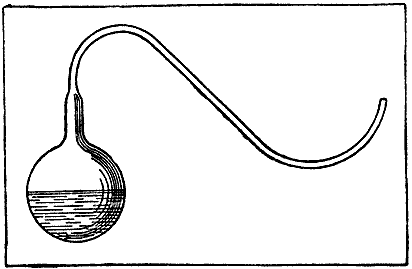
Колба Пастера.
«Что сделать? Как загородить микробам дорогу в колбу?» Есть
люди, которые умеют давать очень хорошие советы. Пастеру повезло: он встретился
именно
с таким
человеком. Результат встречи — знаменитая «пастеровская колба».
Горлышко этой колбы вытянуто в длинную трубочку, изогнутую на манер
шеи лебедя. Воздух проходит через трубочку, но микробы застревают
в изгибе.
Колба открыта,
в нее все время свободно проникает воздух, но ни одного микроба в
ней не заводится. Зато стоит лишь обломить длинное горлышко — и в
колбе
появляются обитатели.
— Видите? — ликовал Пастер. — Видите? Нет самозарождения! Здесь,
в колбе, есть все: и питательный бульон, и воздух. Где же ваша производящая
сила?
Где самозарождение?
Покажите мне его.
— Покажем! — вдруг раздалось в ответ.
Это сказал Пуше с приятелями. А приятели его были Жоли и Мюссе, два
профессора-натуралиста из Тулузы.
— Мы покажем и докажем...
Пуше, Жоли и Мюссе насовали во все карманы колб (Пуше даже сшил себе
особый костюм, состоявший почти из одних карманов) и поехали в горы.
Они не пошли
на помойки, воздух которых изобилует микробами. Нет, это уж слишком
просто.
— Пастер утверждает, что в воздухе ледников микробов совсем мало?
Вот тут-то мы ему и покажем.
В колбы налит питательный раствор — прокипяченный сенной настой,
пастеровские горлышки запаяны. Все проделано с такой же точностью
и аккуратностью,
как у Пастера. Все то же самое, только вместо бульона — сенной настой.
И вот в их колбах всегда появлялись микробы. Даже гора Маладетта
в Пиренеях и та дала Пуше уйму микробов. А Маладетта выше того ледника
на Монблане,
на котором побывал Пастер.
— Что вы на это скажете? — скромно вопрошал Пуше, внутренне торжествуя.
— Есть самозарождение или нет?
Сенной настой испортил дело Пастеру.
— Почему именно сенной настой? — ломал он себе голову. Пастер был
глубоко убежден в своей правоте: самозарождения нет. Он был не менее
убежден
в неточности опытов
Пуше и его друзей. Но он был горяч и нетерпелив, и ему не хотелось
возиться еще и с сенным настоем.
«Пусть комиссия разбирается, это ее дело, — решил он. — Пуше напутал,
вот эту путаницу комиссия и найдет...»
Пастер потребовал, чтобы Академия наук назначила комиссию для рассмотрения
опытов его и Пуше.
Комиссия была назначена. В ее присутствии Пастер и Пуше должны были
проделать свои опыты.
Пуше, очевидно, не был уверен в точности своих исследований, и его
смутило странно настойчивое требование Пастера о специальной комиссии.
Говорят,
что комиссия явно придиралась к Пуше, что заранее было решено провалить
его.
Так или иначе, но Пуше отказался от комиссии. Пастер торжествовал.
Комиссия признала опыты Пастера вполне убедительными. Но не будет
ли новых возражений?
Через десять лет английский врач Бастиан заинтересовался сенным настоем.
Его опыты, поставленные с изумительной точностью и осторожностью,
дали положительный результат: в сенном настое появлялись микробы.
Всего десять лет прошло со времени великой битвы. Неужели снова спорить,
снова кипятить настои и лазить по горам и помойкам?
Только теперь Пастер спохватился:
— Я думал, что Пуше просто напутал, а выходит не так... И все же
это путаница. Только другая.
Пастер должен был распутать это дело. Ведь на карте стояло его имя.
И он распутал его.
Пуше ошибся, был неправ и Бастиан: самозарождения в сенном настое
не было. Микробы попадали в настой не из воздуха, они были на том
сене,
из которого
приготовлялся настой.
Есть особый микроб — так называемая «сенная палочка». Эти «сенные
палочки», а точнее их споры, отличаются удивительной живучестью.
Кипячение при
температуре и 100 градусов не убивает их, и колба с прокипяченным
сенным настоем кишит
зародышами этих микробов. Пока колба запаяна, микробы не развиваются:
им нужен кислород. Стоит обломить горлышко колбы, как туда врывается
воздух,
и микробы
начинают быстро размножаться.
Вот что происходило в колбах Пуше, вот что произошло в колбах Бастиана.
Пастер разыскал «сенную палочку» и придумал, как убить этого живучего
микроба. Нужно кипятить настой при 120 градусах. Этой температуры
не получишь в
открытой посуде, нужна посуда закрытая, нужно повышенное давление.
Вот тогда-то, при
кипячении в течение двадцати минут, при температуре в 120 градусов,
микробы и их споры гибнут.
Пастер проделал все это, и никаких микробов в сенном настое не появилось.
Возражение Бастиана было опровергнуто.
Теперь Пастер мог спокойно сказать:
— Премия моя!
И он получил ее.
Пастер и десять лет назад сказал правду: нет самозарождения в гниющих
настоях. Но тогда он только угадал. Теперь он и доказал это.
Спор, длившийся сотни лет, окончился.
Гомункулус
Замечательный рецепт ..................................................................................................................
3
Кусок гнилого мяса ........................................................................................................................
7
«Всё из яйца!» .................................................................................................................................
13
Всякому свое
Баранья подливка и ученый .....................................................................................................
27
Баранья подливка и повар .........................................................................................................
38
Через сто лет .................................................................................................................................
41
Великий закройщик ........................................................................................................................
49
«Библия природы» .........................................................................................................................
64
Морской монах ...............................................................................................................................
80
«Натуральная история» ..................................................................................................................
92
Кровная родня ................................................................................................................................
105
Система природы ...........................................................................................................................
113
Тайна цветка
Рогатая оса ......................................................................................................................................
140
Природа в натуральном виде ........................................................................................................
149
Три друга
Наружность обманчива ..................................................................................................................
163
«Отец, тебя оценит потомство!» ...................................................................................................
188
Без фактов .........................................................................................................................................
212
«Отчего» или «для чего»? ................................................................................................................
224
Потомки обезьяны
Ваши бабушка и дедушка — обезьяны ............................................................................................
249
«Не хочу дедушку-обезьяну!» ...........................................................................................................
286
«Я горжусь моей бабушкой-обезьяной!» ........................................................................................
303
Меж двух стульев ..............................................................................................................................
320
«Я докажу!» ........................................................................................................................................
342
Оживленные кости ...........................................................................................................................
369
Зародышевые листки ........................................................................................................................
388
Клетки-пожиратели ..........................................................................................................................
406
Примечания ........................................................................................................................................
427